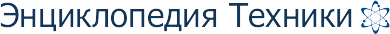Одной из пресловутых «тайн Достоевского», которая должна до скончания веков оставаться в качестве таковой, то есть, не поддающейся окончательному человеческому пониманию и однозначному истолкования, является смерть «старца» Зосимы в романе «Братья Карамазовы», а именно, «тленный дух», который слишком быстро начал распространяться от тела новопреставленного. Вместо положенного благоуханного нетления, которого от него ожидали насельники монастыря и, особенно, его ближайший ученик Алеша, плоть усопшего, напротив, явила распад, который даже «опережал естество», то есть, обычные сроки появления трупного зловония. Так вот объясняются такие вещи тем, что
«Достоевский [этот величайшим русским писателем, который отстаивал Православие и Церковь] – это Тайна. А Тайну невозможно распредметить, ее можно лишь созерцать. Федор Михайлович предлагает нам созерцать вместе с ним непостижимую живую жизнь. Достоевский – поэт живой жизни, которая не укладывается ни в какие доктрины. <…> Федор Михайлович – вне всяких схем. Именно в этом следует искать ключ к разгадке его тайны. Достоевский ускользает от всех схем. <…> Так устроена его личность» (свящ. Александр Шумский. Достоевский – тайна, а не объект для препарирования!).
То есть, «умом Зосиму не понять, в Зосиму можно только верить», потому что он один из главных резонеров Достоевского, транслирующих его сокровенные религиозные идеи... Здесь мы можем видеть в действии сам механизм иррационализации и революционизации нового богословия: религиозное безумие (или слабоумие) романтизма классифицируется как явление христианское и становится нормой для новых христиан. Покойный иерей Александр Шумский, читая фантазии Достоевского на тему «христианство», воспринимал их столь же некритически, как «выдающийся филолог Михаил Бахтин», для которого любой дискурс нормативен, потому что является манифестацией самого себя и не должен оцениваться по каким-то другим принципам и законам, кроме тех, которые он сам создает. Сознание автора здесь полностью определяет бытие текста, которое, в свою очередь, детерминирует сознание читателя (и исследователя) в качестве «объективной реальности», «живой жизни».
«В полифонии голосов заключается сущность творчества Достоевского. Этот феномен Федора Михайловича блестяще и глубоко проанализирован в книге выдающегося филолога и мыслителя Михаила Бахтина “Проблемы поэтики Достоевского”. Вот основная мысль Бахтина: “Множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная полифония полноценных голосов действительно является основною особенностью романов Достоевского”» (свящ. Александр Шумский. Достоевский – тайна, а не объект для препарирования!).
То есть, «поток (патологического) сознания» Достоевского и тот мир, который оно создает, формирует у Бахтина принцип иррациональной «полифонии» как той же самой лжехристианской «таинственности» иерея Шумского, хотя это не более чем стенография духовной болезни Достоевского, всего лишь порождение беспорядочности (страстности) его мышления. Соответственно, сформулированный Бахтиным принцип полифонии (посемии, многозначности, неисчерпаемости смыслов и мнений, их вечного «диалога», царящих в мире писателя, то есть, роившихся в его собственном падшем уме) становится «классическим» не только для всей последующей филологии,[1] но, как мы видим, и для последующего «богословия».
В данной работе, вопреки сторонникам как псевдоправославной «таинственности» Достоевского, так и клишированной филологической «полифонии», мы намерены сделать именно полную расшифровку содержащего в указанном фрагменте романа «Братья Карамазовы» криптографического послания Достоевского своим читателям, исходя из ранее предложенной нами концепции почвеннического «гностицизма» как квазирелигиозного гуманизма.[2]
Соответственно, сразу можно обозначить основную ошибку тех исследователей, которые пытаются найти в этом сюжетном решении писателя какой-то определенный смысл и при этом стараются конструировать его, держась учения Церкви по этому вопросу, не выходить за рамки традиционных православных представлений о святости и нетлении мощей как одном из ее атрибутов. Как будто Достоевский тоже хорошо знал и непреложно веровал в догматы и вместе с житием православных монахов художественно изобразил и смерть одного из них. Следовательно, ответ на вопрос, почему дело в данном случае обстоит так неважно, нужно искать в упадке благочестия современных писателю христиан, критическим изображением которого в романе явился «смрад греха»… Однако уже здесь мы сталкиваемся с существенным противоречием выбранной концепции, потому что конкретно Зосима менее всего годится в качестве мишени для такого рода бичевания общественных нравов, поскольку данной «старец», несомненно, является одним из самых идеальных героев Достоевского вообще, если не самым идеальным из них. «Идеалом» же человечности, как мы хорошо знаем, в почвенничестве является Христос. Так вот Зосима – это, безусловно, максимальное приближение к этому Идеалу (религиозное учение Зосимы было настолько значимым для Достоевского, что он пытался даже издать его отдельно; благо, духовная цензура тогда работала исправно и тиражировать ереси не допускала). Поэтому выбранная модель расшифровки тайны «тленного духа» Зосимы может работать только в контексте другой почвеннической идеи романа, а именно, учения о круговой поруке «виновности», о неразрывной связи истинной нравственности и ответственности за других, то есть, ответственности за чужую греховность, в которой каждый «виноват». Поэтому и самая «всечеловеческая» из всех натура Зосимы «провонять» могла не своим персональным «смрадом» как зловонием греха, но – тоже «всечеловеческим» смрадом греховности.[3]
Уже одного этого достаточно, чтобы увидеть, насколько далеко «богословие» Достоевского обстоит от ортодоксального учения Церкви. В том и дело, что Зосима – это подвижник не христианского благочестия, но – идеалистической этики. Его романтическое учение несравненно ближе к «метафизике нравственности» Канта, к теогонии Шеллинга и Гегеля, чем к «Добротолюбию», которого Достоевский, разумеется, в глаза не видел, а если бы оно попало ему в руки, он быстро отложил бы его в сторону: настолько оно другое по духу, чем все то, чем Достоевский жил и дышал как писатель и религиозный мыслитель.
В Христианстве мощи святых благоуханны и нетленны потому, что на них воздействует Бог Своей благодатью. Нетварная сила Духа Божия дает такой залог грядущего воскресения и вечной жизни обоженного существа святых в Божьем Присутствии. Почвенничество же Достоевского как разновидность общеромантической философии всеединства в принципе не знает такого понятия как благодать, то есть, сознательно или бессознательно («вольно или невольно») отрицает его ортодоксальное значение. Потому что это религия самоспасения, по самой своей сути. Спасение у Достоевского есть процесс «нравственного самосовершенствования», «самовоскрешения» и «самоисправления». И поэтому никакого другого «обожения», кроме нравственного доведения человеком самого себя до подобия и тождества евангельскому образу Христа здесь не предполагается. Соответственно, и никакого физического нетления для этого не требуется. Главное – «чтобы человек был хороший», «высоконравственный», а такому и посмертно «провонять» на данном этапе филогенеза совсем не зазорно. «Истинный (эзотерический) Христос», как писала чуть позже Блаватская (и как понимали философы всеединства), есть «дитя духовных усилий человека». Гностический «Сын Божий» рождается внутри человека, волящего «категорический императив» нравственности как закон своего естества. И Достоевский (вместе с другими идеологами почвенничества) целиком и полностью находился в инерции этого общеевропейского неогностицизма. Его «обожение» – это тоже процесс «естественной» теогонии «всечеловечества».
«Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей? <…> закон я сливается с законом гуманизма, и в слитии, оба, и я и все (по-видимому, две крайние противоположности), взаимно уничтож<енн>ые друг для друга, в то же самое время достигают и высшей цели своего индивидуального развития каждый особо. Это-то и есть рай Христов. Вся история, как человечества, так отчасти и каждого отдельно, есть только развитие, борьба, стремление и достижение этой цели. <…> человек есть на земле существо только развивающееся, след<овательно>, не оконченное, а переходное. <…> Мы знаем только одну черту будущей природы будущего существа, которое вряд ли будет и называться человеком (след<овательно>, и понятия мы не имеем, какими будем мы существами). Эта черта предсказана и предугадана Христом, — великим и конечным идеалом развития всего человечества, — представшим нам, по закону нашей истории, во плоти; <…> Синтетическая натура Христа изумительна. Ведь это натура бога, значит, Христос есть отражение бога на земле. Воскреснет тогда каждое я — в общем Синтезе».[4]
Если в Христианстве христианин духовно рождается в Таинстве Крещения, воскресая из небытия «ветхой» греховности, и духовно возрастает в благодати других Святых Таинств, чтобы быть навечно усыновленным Богом, то в почвенническом гностицизме подобное «богочеловечество» стяжается на путях «единого на потребу» «нравственного самосовершенствования». Никакой онтологической разницы между «ветхим» и «новым Адамом» здесь нет (в силу все того же отрицания нетварной благодати). Человек духовно развивается до состояния гностического «богочеловека», а его плоть возвращается в «мать сыру землю», которая есть и «сущая» гностическая «богородица», как «пророчествует» другая «старица» Достоевского.[5] Поэтому сразу после прозрения этой гностической «тайны» смерти Всечеловека Зосимы, Алеша совершает ритуальное поклонение этой «богородице», в утробу которой вернулось тело его Гуру, чтобы породить сонмы новых гностических «Христов».
«…учитель мужика "в деле веры его" – это сама почва, это вся земля русская <…> верования эти как бы рождаются вместе с ним и укрепляются в сердце его вместе с жизнию».[6]
Поэтому у Достоевского таким же манером «провонял» бы и Иисус Христос, умри Он в его романе, как Иешуа в романе другого гностика – М. Булгакова, по банальному принципу «что естественно, то не безобразно». И наоборот: что «естественно», то одно и «божественно». Никакого сверхъестественного действия Божия (благодати) для обожения в этой «всечеловеческой» религии не требуется в принципе. Поэтому и никаких чудес здесь не происходит, нетления мощей, в частности. Теогония – это «органический» процесс развития единой (онтологически однородной) субстанции бытия.
«Да Христос и приходил затем, чтоб человечество узнало, что знания, природа духа человеческого может явиться в таком небесном блеске, в самом деле и во плоти, а не что в одной только мечте и в идеале, что и естественно и возможно».[7]
Поэтому субъективно (или по авторскому замыслу) мы имеем в смерти Зосимы гностический парафраз архетипической смерти Всечеловека-Христа, где Алеша и другие ученики Умершего – это гностические «апостолы», разбежавшиеся после смерти и захоронения этого «Христа». Соответственно, последующее нравственное возрождение Алеши и других героев романа – это гностические «воскресение», «пятидесятница» и т.д.[8] Объективно же смерть этого Самого Человечного Человека – это примерно то же самое, что смерть и погребение Ленина в языческом мавзолее. Здесь (в романе Достоевского) онтологический «смрад греха» заглушается рассчитанным на таких же, как сам автор, религиозных глупцов романтическим лепетом о «нравственной самообработке»; а там (в советском романтизме) – схожей идеологией грядущего преображения массового человека, до которого должны сохраниться насквозь пропитанные хлороформом «мощи» другого гностического «всечеловека».
«Пойдите, как Влас, у которого “Сила вся души великая / В дело Божие ушла”. <…> Если так будут говорить [и делать] все люди, то, уж конечно, они станут и братьями, и не из одной только экономической пользы, а от полноты радостной жизни, от полноты любви. Скажут, что это фантазия, что это “русское решение вопроса” — есть “царство небесное” и возможно разве лишь в царстве небесном. Да, Стивы очень рассердились бы, если б наступило царство небесное. Но надобно взять уже то одно, что в этой фантазии “русского решения вопроса” несравненно менее фантастического и несравненно более вероятного, чем в европейском решении. Таких людей, то есть “Власов”, мы уже видели и видим у нас во всех сословиях, и даже довольно часто; тамошнего же “будущего человека” мы еще нигде не видели. <…> Исполните [дело “будущего человека” – А.Б.] на себе сами, и все за вами пойдут. Что тут утопического, что тут невозможного — не понимаю! Правда, мы очень развратны, очень малодушны, а потому не верим [в возможность и естественность царство небесного на земле. – А.Б.] и смеемся. Но теперь почти не в нас и дело, а в грядущих. Народ чист сердцем, но ему нужно образование. Но чистые сердцем подымаются и в нашей среде — и вот что самое важное! Вот этому надо поверить прежде всего, это надобно уметь разглядеть. А чистым сердцем один совет: самообладание и самоодоление прежде всякого первого шага. Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять, — вот в чем вся тайна первого шага».[9]
Все эти пелагианские трюизмы Достоевского о нравственном долге «самообладания», для исполнение которого всякий человек обладает «великой силой души», которую лишь необходимо привести в действие как механизм построения в себе эзотерического «Христа» («Будущего Человека»), а из совокупности таковых – гностического «царствия Божия» на земле, так вот все эти «заповеди» почвенничества вполне можно представить себе на советских агитационных плакатах, призывающих человека строить коммунизм, не покладая рук, и строго укоряющих его за уклонение от должного.
«Вот тут труд всеобщий (если б все были Христы)…».[10]
Поэтому и апологеты лжеправославной «таинственности» Достоевского, как правило, весьма благосклонны к советскому периоду русской истории, столь же «органично» соединяя эти, казалось бы, противоположности в «православном социализме» и «ортодоксальном сталинофильстве», как сам Достоевский диалектически «синтезировал» гностическую «святость» с греховными страстями, «идеал Мадонны» – с «идеалом Содома».
Итак, ответ на вопрос, что означает «тленный дух», исходящий от преставившегося «святого» Зосимы в романе Достоевского, с какой целью автор наделил своего идеального героя этим ущербом, как и ответы на все остальные вопросы к творчеству писателя, лежит в онтологии и богословии почвенничества. И суть здесь заключается в том, что данное религиозное учение представляет собой разновидность нового гностицизма как религиозно переживаемого гуманизма. Соответственно, Зосима – это не христианский, но гностический «святой».
«Из Христа выходит та мысль, что главное приобретение и цель человечества есть результат добытой нравственности. Вообразите, что все Христы…».[11]
Если в Христианстве утешением в земных скорбях для христиан является все та же единая благодать Духа Утешителя, то в почвенничестве гностика Алешу, скорбящего по ушедшему Учителю, утешает «инфернальница» Грушенька.[12] То есть, и эту функцию Бога в почвеннической религии тоже выполняет человек, причем человек-грешник, отнюдь не праведник. Поэтому и «смрад греха» здесь ни о чем не говорит, никакой непреодолимой онтологической скверны за собой не предполагает, то есть, такой порчи своей природы, которую человек не способен был бы «нравственно» преодолеть волевыми усилиями.
«СЛОВАМИ СТАРЦА <…> Главное. <…> Мог светить, как единый безгрешный.
Обратите внимание: Что такое крейт и зачем это нужно.
Ибо всяк может поднять ношу его [Христа], всяк — если захочет такого счастья. Он был человеческий образ. Всю землю спасти можешь».[13]Если в Христианстве грех противоестествен, а благодать (единственное средство возрождения, преображения и спасения человека) сверхъестественна, то в новом гностицизме и то, и другое – «естественно и возможно». И грех (Содом), и святость (Идеал-Христос) – это естественные проявления человеческой природы, способной как скатываться к скотскому состоянию, так и восходить – к богочеловеческому. «Всечеловечество» почвенничества есть единый развивающийся «организм», проходящий все необходимые стадии становления Богочеловечеством, или коллективным Христом. Это и есть типичная форма реанимированной новой философией языческой теогонии как вечного круговорота гностического «Бога» в природе.[14]
От гностической «блаженный» Елизаветы Смердящей происходит гностический «иуда» Смердяков. А гностический «святой» Зосимы, наоборот, смердит, потому что все это не столько их персональные качества, сколько свойства эволюционирующего «всечеловеческого» Организма, который рано или поздно, но столь же гарантированно «просияет» эзотерической «святостью» (нравственным тождеством евангельскому Христу), как сейчас «провонял» страстями и пороками.[15] Если же рассматривать это качество как персональное, то такая червоточина в образе Зосимы (так же, как, например, сумасшествие Мышкина как «Князя-Христа» в финале романа «Идиот») означает лишь, что Идеал («состояние Христа») в данном конкретном случае еще окончательно не достигнут, хотя и уже очень близок, а значит, и гностическое царствие «русского социализма» (где будут «все Христы») уже не горами.
Таким образом, «тленный дух», исходящий от лжестарца Зосимы в романе Достоевского, субъективно (или в авторском замысле) обозначает «органичность» данного явления в почвеннической теогонии: естественно человеческой плоти умереть (и испустить свойственный этому процессу запах), естественно человеческому духу соединиться с «Мировым Духом» (частью которого он является по своей природе). Объективно же это является выражением неверия автора в один из основополагающих догматов Православной Церкви о божественной благодати как единственной силе, способной переродить человека, сделав его «благонадежным для Царствия Небесного», поскольку в почвенническом гностицизме человек обладает этой «великой силы души» как природной способностью. О степени искажения догматического учения Церкви здесь можно судить по тому, что такого рода воззрениям специально посвящен один из анафематизмов чина Торжества Православия: «Неприемлющим благодати искупления Евангелием проповеданного, яко единственного нашего ко оправданию пред Богом средства: анафема».
Александр Буздалов
________________________________________________________________
[1] «Как верно заметила тамбовская исследовательница А. А. Михайлова в обзорной статье “Тайна тлетворного духа в романе Ф. М. Достоевского Братья Карамазовы”, интересующий нас фрагмент являет собой образец знаменитой авторской полифонии. О странном происшествии с телом старца на страницах романа говорят его друзья и враги, миряне и монахи, верующие и скептики, высказывает свое мнение и рассказчик, автору не тождественный. Но, несмотря на множество бытовых и мистических объяснений происшествия, у нас не возникает ощущения, что кому-то из участников спора была открыта истина. Поверхностному читателю, возможно, будет довольно слов, сказанных отцом Паисием постнику Ферапонту: “Может, здесь указание видим такое, коего не в силах понять не ты, ни я и никто”» (Климова М.Н. Зачем «провонял» старец Зосима (Комментарий к скандальному эпизоду романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»). Сюжетология и сюжетография. 2016. №1. С.127 / Михайлова А.А. Тайна «тлетворного духа» в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Вестник Тамбов. гос. техн. ун-та, 2011. Т.17, №1. С.256).
[2] Ср. «Однако Алеша все же нашел некое примирившее его с Божьим миром решение этой загадки, что побуждает к дальнейшему поиску и нас, заставляя еще раз вчитаться в текст романа. И вот что обнаруживается. Хотя Ф.М. Достоевский нигде не дает прямого ответа на интересующий нас вопрос, его ответ можно воссоздать из совокупности фрагментов, доверенных автором романа разным участникам “прения о Зосиме” вне зависимости от их отношения к усопшему» (Климова М.Н. Зачем «провонял» старец Зосима. Цит. изд. С.127).
[3] «…прозорливый старец не только предсказал свое посмертное поношение, о чем дополнительно напоминает рассказчик, но и четко изложил собственное кредо, имеющее прямое отношение к ответу на интересующий нас вопрос. Вспомнив неоднократно звучавший в романе тезис Зосимы “Всякий за всех перед всеми виноват”, мы понимаем, что все случившееся с ним после смерти произошло в точности “по вере его”. “Тлетворный дух” в таком контексте становится знаком добровольно принятой на себя ответственности за все происходящее в этом далеком от совершенства мире. В свете учения о всеобщей взаимной вине переосмыслена в романе и тема помощи гибнущей душе» (там же; с.131).
[4] Записная книжка 1863-1864 гг. / Д.,ХХ,172-174.
[5] Бесы. Ч. 1. гл. 4 / Д.,X,106.
[6] Дневник писателя. 1877, май-июнь, гл.4,I / Д.,XXV,168.
[7] Бесы. Подготовительные материалы / Д.,XI,112.
[8] «Справедливым видится нам и другое замечание исследовательницы [Климовой М.С.] о решающем значении, которое имело происшествие с телом Зосимы для духовного становления его любимого ученика. Действительно, подобно искупительной жертве Богочеловека, о которой Алеша в минуту отчаяния почему-то не вспомнил, остро пережитый им позор его невинного учителя радикально преобразило душу юноши, избавив его от морока Ивановых софизмов и прекраснодушных иллюзий и укрепив в истинной вере, закаленной в горниле сомнений» (Климова М.Н. Зачем «провонял» старец Зосима. Цит. изд. С.131 / Климова С.М. Агиографические элементы рома Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Человек, 2002. №6). Со все тем же уточнением, что таким манером «укрепиться» Алеша мог, конечно, только в гностической «вере», а не в православной, которая, в принципиальном отличие от первой, укрепляется исключительно благодатью, а не, варясь в собственном соку, в алхимическом «горниле сомнений». Но Достоевский настолько заразил всех своим богословским невежеством, что даже митрополиты и профессора богословия не устояли, так что с филологов и философов какой тут спрос.
[9] Дневник писателя. 1877, февраль, гл. 2,IV.
[10] Бесы. Подготовительные материалы / Д.,XI,192-193.
[11] Там же.
[12] «До основания потряс скандал у гроба старца душу его любимого ученика Алеши Карамазова. Не усомнившись ни на миг в своем учителе, он воспринял происходящее как незаслуженное поношение праведника. Вознегодовав (не без влияния недавно услышанных софизмов брата Ивана) против божественного миропорядка, допустившего эту несправедливость, юноша покинул монастырь. Готовый отринуть все прежние обеты, он даже согласился пойти с Ракитиным к “инфернальнице” Грушеньке, но внезапно получил от нее сестринскую поддержку и утешение. Укрепленный духом, Алеша вернулся к гробу учителя и во время заупокойной службы в “тонком сне” увидел Зосиму среди гостей евангельского пира в Кане Галилейской» (Климова М.Н. Зачем «провонял» старец Зосима. Цит. изд. С.126). То есть, опять же, выход гностика в астрал более действенное средство, чем церковная молитва, поэтому на панихиде и вздремнуть можно, толку-то все равно от этого «суеверия» никакого.
[13] Братья Карамазовы. Рукописные редакции / Д.,XV,243-244.
[14] «…в поучениях Зосимы яркость многократно употребленной им метафоры “смрад греха” явно ослаблена и тем, что “всякий за все перед всеми виноват” (т.е. смердит грехом каждый из людей). Кроме того, старец призывает любить землю и ее обитателей, а ведь смерть, тление, распад с сопровождающими их дурными запахами неотъемлемая часть прекрасного и вечного круговорота жизни» (Климова М.Н. Зачем «провонял» старец Зосима. Цит. изд. С.133).
[15] Ср.: «По остроумной догадке философа С.М. Климовой, пресловутый “тлетворный дух” в романе не синоним природного запаха мертвого тела, а “духовное смердение”, исходящее от живых, смрад их суеверия, зависти и недовольства тем, что усопший старец «не дал» собравшимся у его гроба поиграть в отсутствующую у них веру. “Достоевский употребил многозначительное слово “дух” для того, чтобы указать не столько на запах, но, прежде всего, на существо той “духовности”, которую явили собой живые участники важнейшего события в жизни православного человека смерти» (там же; c.131 / Климова С.М. Агиографические элементы рома Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Человек, 2002. №6. С.163).
Больше интересных статей здесь: Новости науки и техники.
Источник статьи: Зачем Зосима «провонял».