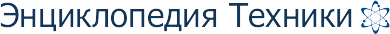Когда на осенний лес опускается темнота и глаза уже ничем не могут тебе помочь, в караул становятся уши. Словно локаторы нацеливаются они на лесную тишину. А тишина осеннего леса — почти космическая! Слушаешь лес, а слышишь лишь самого себя: свое дыхание, шевеление сердца.
Я сижу на сторожевом дереве над мертвым лосем. Ничего не вижу и ничего не слышу — словно подвешенный в темноте. Невесомо парю между землей и небом.
Под моим лабазом-настилом лежит убитый медведем лось. И я жду, когда медведь к нему придет. Медведь уже приходил однажды, после того как лося заломал и забросал его сучьями и землей. Я никогда еще не видел медведя у его добычи. И вот подвернулся случай, когда это можно сделать: если, конечно, повезет. В лесу никогда и ничто не бывает наверняка, слишком много превходящих событий и неожиданностей. Туман, ливень, смена ветра, случайный звук: пальцев не хватит, чтобы все перечислить. Это и плохо, и хорошо: скучно ведь, когда все наперед знаешь.
Как же все-таки это происходит?
Уходят в прошлое медвежьи и волчьи ночи. Все реже встречаем мы зверя с глазу на глаз. И хорошо, слышу я голоса. Не встречаем, не видим — и не хотим. Мы не жаждем звериных переживаний — еще чего!
А мне так жалко: зверь в лесу — памятная картина!
Особенно хороши встречи ночью, один на один. Ты идешь, а он стоит. Или ты стоишь, а он идет мимо. Или вот как сейчас: сидишь и ждешь — придет или не придет?
От дуновения ветерка прямо в ухо защебетали вдруг еще уцелевшие листья. Одни, сорвавшись, постукивают, падая, по сучкам, другие скребутся по шершавой коре ствола. И вот уже понеслись по земле, шурша, словно мыши.
И снова надолго тягучая тишина.
У нас одно слово — тишина. А тишина очень разная! В горах — гор-" ная тишина, в пустыне — пустынная. А вот тут — лесная тишина. И она совсем не похожа ни на какую другую тишину.
Но и лесная тишина тоже не одинаковая. Утренняя одна — полуденная другая. Тишина летняя, весенняя, зимняя. Вечерняя тишина совсем не похожа на тишину ночную, ту, что вот сейчас. Но есть одно общее у всякой тишины — ей не веришь! И хоть ничего не слышишь, а все равно чего-то ждешь. И чаще всего дождешься.
Холодная волна обдала с головы до ног, и сразу в жар бросило! Лицо покрылось испариной. Ухо уловило ясное шурханье, совсем не похожее на шорохи листьев. Кто-то приближался уверенно и беспечно: шурх, шурх, шурх...
В общем-то это хорошо: значит, зверь не пуганый, не настороженный и меня не чует. Настороженный не стал бы так беспечно шагать, а подходил бы с оглядкой и остановками, надолго бы замирал, недоверчиво вслушиваясь и внюхиваясь, поворачивая голову вправо и влево. Обошел бы сперва добычу кругом — нет ли к ней человечьего следа? Сучок бы сухой нарочно переломил — вдруг затаившийся выдаст себя? И если бы что-нибудь заподозрил — ушел бы неслышно, словно и не приходил. Ну а если бы не заподозрил, все равно так тихо бы подошел, что ты бы ничего не услышал. Под самое дерево подойдет — и ни малейшего звука. Потому-то есть правило у охотников: на лабазе не ворохнись. И не дыши — если можешь...
Шурх, шурх, шурх — близко уже совсем!
Еле сдерживаю дыхание, а оно, как нарочно, распирает грудь. И ка-- жется, что ты как паровоз сопишь. Вдыхаю медленно, раскрытым ртом,
и медленно выдыхаю, чтоб ненароком не присвистнули губы. А сердце под ребрами так ворочается — хоть шапкой его прижимай!
Шурх, шурх, шурх — и тишина! Услышал? Или к добыче подошел?
Медленно поворачиваю голову — не скрипнули б позвонки! — и навожу ухо на падаль. Медленно прикладываю к уху ладонь. Ничего: только шорохи ночного эфира да тяжелые толчки своей же крови.
Лес и ночь куда-то отодвинулись, исчезли, растворились: все чувства скрутились в упругий жгут и нацелились туда, где затих зверь. Что там сейчас?
Когда день назад я наткнулся на этого убитого лося, то заметил, что кора на ближних деревьях была ободрана, кусты поломаны и помяты. Но это не были следы борьбы, это были отметины медвежьего танца победы. Заломав лося, медведь так возбудился, что долго еще не мог успокоиться, и все бесновался, круша и грызя все вокруг. Отплясывал танец победы. Не дай бог подвернуться ему тогда под горячую лапу! Да и сейчас...
Поостыв, он деловито нагреб на лося сучков и веток, мха и лесного мусора — прикрыл от глазастых ворон. Хоть сами много и не съедят, а другим выдадут. Еще и охотника наведут.
Из темноты донесся звук, словно с трудом подвинули тяжелый мешок с мукой. Медведь сдвинул тушу лося? Или на другой бок перевалил? Но ничего, ничего не видно, хоть и вглядываюсь до зеленых амеб в глазах!
Темнота, как и тишина, тоже не одинаковая. То вроде мозаики из черных пятен: пятно потемней, пятно посветлей. Или вот как сейчас: стена черная непроглядная. Словно тебе глаза завязали!
Глухое черное небо, черный лес, черная земля. И где-то на этой черной земле черный мертвый лось.
А рядом с ним — черный медведь. Вязкая чернота: как только ночные звери приспособились к ней! Обитатели ночи...
Ничего не вижу, только догадываюсь: что, где и кто. Снова зябко зашелестели, заколотились над ухом осенние листья, пахнуло холодом и сырятиной. Слава лешему, пахнуло не от меня, а на меня! Обдало запахом мертвечины и волглой звериной шерсти. Медведь был у своей добычи.
Вот ясный хруст — разгрызает кость, вот словно натужно заскрипела дверь — это он ребро выворачивает. Мокрое чмоканье — кость мусолит, мозг из нее высасывает.
Странное, какое-то задышливое состояние: ты слышишь зверя, ты рядом с ним, а он ничего о тебе не знает! Темнота разделила вас черной перегородкой. Но перегородка эта такая зыбкая, что стоит дохнуть ветерку с твоей стороны — и она рухнет. И ты окажешься со зверем с глазу на глаз: с той только разницей, что его глаз сразу же тебя увидит, а твой его — нет. А что из всего этого выйдет — пока не знаешь ни ты, ни медведь. Все будет зависеть от случая и от характера: твоего и медвежьего. А сейчас сиди и не ворохнись. И надейся на ветер. От его дуновения зависит твоя судьба.
Снова хруст, чмоканье, чавканье: значит, зверь успокоился и по-настоящему принялся за еду. Звуки совсем не громкие, да и слышны лишь время от времени. Не знай я, что рядом голодный зверь, я бы и внимания на возню эту не обратил, даже если бы проходил вблизи.
Раз донеслось утробное густое ворчание: лисица сунулась или горностай проскочил у носа? Много в лесу голодных, которые могут прибежать по текучим струйкам мясного запаха. Вслушиваюсь и перевожу с языка ушей на привычный мне язык глаз, складываю из звуков образы и события.
Если записать эти звуки на магнитофон, получатся лишь невразумительные шумы, которые могут вызвать одно лишь недоумение. А сейчас, в этой лесной глуши, они звучат устрашающе: до озноба, до всхлипывания в груди. Хоть ты на лабазе своем почти в безопасности.
Надолго затаенная тишина. Насторожился? Ушел? Слышишь только стук в висках. Но вот — почему-то совсем в стороне! — непонятный хруст, позвякивание стекляшек и тихие всплески. Ага, медведушке захотелось пить! Он отошел от убоины к остекленелой луже, продавил мордой свежий хрусткий ледок, отгреб осколки лапой и залакал. Вернется ли снова к лосю иди уйдет совсем?
Может, медведь и вернулся бы к своей добыче, но тут струйка ветра захолодила мне сзади шею, прошелестела листьями и утекла в темноту, к медведю. И там мазнула по его мокрому носу. Теперь запах близкой падали не перебивал уже слабого запаха человека, и медведь его сразу же уловил. Запах ему хорошо знакомый, но всегда чужой и пугающий. Ничто другое в лесу не пахнет так: смесь из запахов тела, железа, резины, материи, пластмассы и бензина. Всего того, чем пропах нынешний человек.
Всхрап — и тяжелое тело дернулось в темноте. Но не рыка, не топота, даже шуршания листьев — словно по воздуху улетел. Или затаился? Или вскинулся на дыбы и теперь всполошенно крутит башкой по сторонам, соображая, откуда ему угрожают?
Предупредительное, сквозь губы ворчание. Нарастающее, готовое мгновенно прорваться оглушающим рыком. Но вместо обвального рева, от которого как бы все внутри обрывается, возник совсем не громкий и совсем непонятливый звук, похожий на стук кастаньет. Отчетливо так: трррр! Трррр!
Я ждал чего угодно: ворчания, рыка, мягкого топота тяжелых лап, шороха веток, наконец. Но только не этого совершенно необъяснимого перестука костей. Кости постучали, побрякали и утихли. И снова я слышал только свое дыхание и толчки отяжелевшего сердца.
Где медведь? Ушел или вернулся к падали? А может, подкатился под дерево мое и ждет? Ни тени, ни звука. Все то же парение в пустоте.
Но почему стук костей, что за треск кастаньет?
Это не лязг, зубов, не хруст разгрызаемой кости — а что? Объяснения не было. Прояснить дело могло только утро, которое, как известно, всегда вечера мудреней. А уж ночи — и подавно.
Мутный волглый рассвет долго просачивался в лес, вымывая из черноты какие-то черные сгустки, которые медленно оборачивались деревьями и кустами. Стал различим и цвет: бурая земля в желтом крапе опавших листьев. Забелел ствол березы: под ним на пожухлой траве, подернутой дымкой инея, темнела туша лося. Под моей ухоронкой не было никого.
В сумрачных еще кустах цикала невидимая зарянка, где-то повизгивали дрозды. Лес прояснился все больше и почему-то все больше казался совсем другим, чем представлялся ночью. Да он, ночной лес, и в самом деле совсем другой.
Вместе с ночью уходило и все ночное. И дыхание не казалось больше клокотанием паровоза, и сердце не стучало в ребра. Казалось, что ты вот сейчас проснулся, а все, что было до этого, было во сне. Правда, убитый лось лежал уже немножко не там и не на том боку...
Знобило, ломило спину и шею, чуть не со скрипом разгибались руки и ноги. Но это привычно, это быстро пройдет, стоит лишь спуститься и пободрее пошагать к дому. Тело на ходу
разогреется, разомнется, ночная одурь пройдет, и станешь прикидывать, что упустил, чего не предусмотрел.
Ну во-первых, надо бы было на медвежью тропу набросать веток с сухими листьями. Не каждый медведь станет шаркать лапами. Иной как тень идет, словно сгусток тумана плывет между деревьями. Но сухие ветки выдадут и такого. Только не надо их руками трогать, а сгрести на тропу шестиком.
И еще: когда вдруг стихли медвежьи шаги и долго не было ни единого звука, я лихорадочно соображал — где медведь? А ведь был верный знак: вдруг пахнуло падалью! Медведь уже принялся за еду.
Понятен хруст костей, чмоканье, чавканье, скрип выламываемых ребер. А вот кастаньеты? Что это было? Сердитый стук, угрожающий.
Стук этот не разгадывался и при свете солнца. Никогда ничего я подобного не слыхал: ведь не кастаньетами же он стучал, в самом деле!
Загадка легла в долгий ящик памяти — до времени, до поры.
Пора пришла только недавно: в комнате у меня вдруг залетала моль. Из мехов была одна лишь старая медвежья шкура, свернутая в рулон и заброшенная на шкаф. Так и есть: в мешке со шкурой была уже не шкура, а голая кожа и вороха трухи!
Я срезал с кожи когти, а все остальное завернул потуже и выбросил на помойку. Когти я разложил на столе, чтобы почистить. И когда возился с ними, случайно стукнул одним о другой...
Так явилась разгадка. Это был тот самый звук, который слышал я ночью много лет назад. Медведь, сердитый и перепуганный, стоял на задних лапах, а передними нервно хлопал, стучал лапой о лапу. Стук когтей, медвежьи кастаньеты! Ведь когти у медведей длиной с наши пальцы.
Пугал или сам боялся? Ведь и мы, волнуясь, стучим пальцами о пальцы.
Уж не от медведей ли переняли испанцы этот стук? Ведь жили когда-то медведи в Испании и испанцы на них охотились. И могли услышать и перенять этот возбужденный треск.
Такая вот неожиданность. Никогда наперед не знаешь, что тебе покажет лес. Не предугадаешь вперед ни на день, ни на час.
А может, и не когтями стучал, а зубами? И тоже пугал? Или тоже от страха? Но все равно похоже на кастаньеты. И значит, медведь все равно испанский!